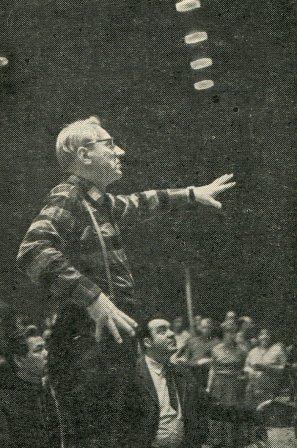 Ранее: Часть 86
Ранее: Часть 86
Итак, глинкинская опера дождалась наконец своего часа — она поставлена в соответствии с духом произведения, с его глубоким поэтическим содержанием, исполнена в полном смысле художественно, и потому создание композитора воочию явилось нам в своей первозданной ослепительной красоте. Двадцать пять лет назад со страниц капитальной монографии Асафьева «М. Глинка» раздался негодующий голос ее автора: «О возрождении «Руслана» надо просто кричать и требовать этого возрождения от близоруких руководителей советских оперных театров». Ныне Большой театр достойно удовлетворил это законное требование всех тех, кому дорога русская музыка, дорог Глинка, для кого искусство является «хлебом насущным».
Настоящая постановка оперы, видимо, не единственно возможная. В художественном деле ведь нет и не может быть «единственно правильных», раз и навсегда данных решений. Какие-то частные моменты в работе постановщиков (режиссера и дирижера), исполнителей-певцов можно оспорить. На оперной сцене допустимо появление и несколько «другого» «Руслана» — более величавого, строгого, «былинного». Но в спектакле Большого театра среди прочих достоинств есть одно, на мой взгляд, особенно важное и ценное — свежесть и современность восприятия глинкинской оперы, ее музыкально-сценической интерпретации. Создатели спектакля увидели и раскрыли такие стороны произведения, которые неясно распознавались и которые не удавалось выявить их предшественникам в оперно-театральном искусстве. Это могучая и непрерывно заявляющая о себе действенная сила, переполняющая «Руслана» в героике и в фантастике, в лирике и в комизме.
Это волшебное в своей пушкинской ясности и легкости совершенство оперы, ее пушкинско-глинкинская радостная красота, полная «непринужденность» художественного создания, в которой, между тем, таятся перлы творческой фантазии, ума, блестящей и остроумной выдумки (они кажутся неожиданными, «сейчас родившимися» импровизациями гениального музыканта). Представление «Руслана и Людмилы» в Большом театре доставляет огромное наслаждение, заставляет нас вновь и вновь восхищаться оперой как шедевром искусства прошлого, отмеченным особой классической законченностью, «мраморным изяществом» (по удачному выражению Лароша). Но спектакль этот вызывает и размышления, потребность вновь и вновь вчувствоваться, вдуматься в творчество Глинки, глубже проникнуть мыслью в сокровенную суть этого уникального художественного явления, понять композитора как «музыканта наших дней», а не только как «классика XIX столетия».
И постановка Большого театра имеет в этом смысле определенную познавательную ценность, она поучительна. Не скрою, высказанные в статье мысли о некоторых чертах оперы и особенностях творческого метода композитора не только нашли опору в спектакле, но и приобрели после него большую определенность, оформленность. В частности — все то, что было сказано о соотношении интеллектуального и непосредственного, объективного и субъективного, о «переживании» и «представлении» в искусстве Глинки. Добавлю, что «Руслан» оказывается удивительно «созвучным» музыкальной (в частности и музыкально-театральной) культуре нашего века. В нем видны приметы современной оперной, театральной драматургии — более всего театра эпического, с типичным для него смешением разнородных жанровых элементов, парадоксальным «пересечением» различных стилевых планов, обнажением всякого рода условностей, моментов «театрального», «игрового». У Глинки эти признаки, разумеется, не выступают с полной резкостью, они порой носят в его произведениях скрытый, «потенциальный» характер, но тем не менее своеобразно окрашивают «классическую» форму его искусства.
Спектакль Большого театра обладает, я уверен, и немалым воспитательным значением. Особенно— для нашей музыкальной и вообще художественной молодежи... «Руслан» — не просто удача, но принципиально важное явление в художественной истории Большого театра. Эта работа обязывает ко многому. Театр, обладающий давними и славными традициями, должен продолжать и развивать ту творческую линию, которая выразилась в новой и отныне исторической постановке гениального творения Глинки — его «Руслана и Людмилы». Уходя домой со спектакля, я невольно вспомнил слова Лароша, сказанные им на исходе XIX столетия (в 1893 году) после трехсотого представления «Руслана»: «Если нас спросят, которая из опер девятнадцатого века представляет полнейшее слияние вдохновения и мастерства, техники и поэзии, силы и грации, правды и красоты, мы и теперь, на склоне века, принуждены ответить: «Руслан и Людмила». Сейчас, спустя еще восемьдесят лет, Большой театр дал полновесное подтверждение истинности этих слов. За это он заслуживает самой горячей благодарности!
«Советская музыка», 1972, № 12
Продолжение: Часть 88
